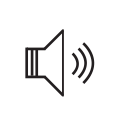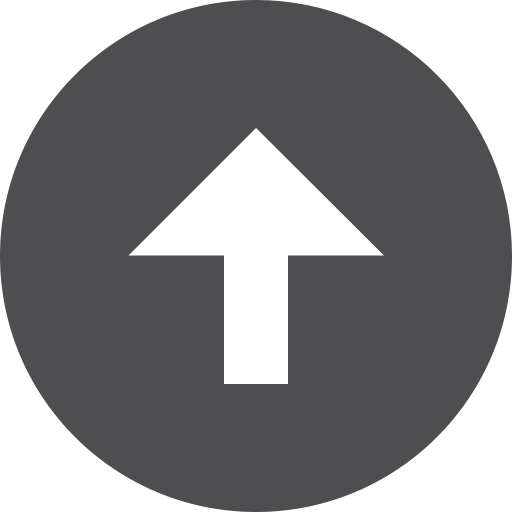Вспоминая о начале Великой Отечественной войны, именно эту фразу Альберт Александрович Либзон повторил несколько раз. Пятилетнему мальчишке было очень страшно, а 83-летнему ветерану до сих пор больно:
– Я не могу вспомнить лицо своего отца, но помню каждую щербинку на его армейском ремне, – вытирает он набежавшую слезу. – Он прижимал нас к себе, и я видел только его ремень. Его призвали в первый же день войны. В тот день, 22 июня, немецкие самолеты бомбили наши танки, стоявшие на заводе в Виннице. В танках не было людей, но баки были заполнены горючим.
Альберт Александрович – невысокого роста, довольно миниатюрный мужчина, совершенно не выглядящий на свои годы. Шустрые движения, яркие глаза, четкая, почти сценическая речь и гладкое лицо. Таким он сел в кресло перед камерами видеооператоров. А когда съемка закончилась и погасли софиты, перед нами сидел уже глубоко пожилой ветеран, с опущенными плечами, запавшими глазами и глубокими морщинами на гладко выбритых щеках. Как будто вся боль воспоминаний за эти два часа навалилась и согнула его.
В июле 1941 года уже была расстреляна бабушка, мама отца нашего героя, дедушку расстреляли не сразу – хороший специалист по полиграфии был нужен фашистам для своих целей. Но в начале августа убили и его. Про себя же Альберт Александрович говорит так:
– Видимо, Бог так решил, что я должен жить. Иначе я не могу объяснить, как я выживал в тех ситуациях, в которых не должен был выжить, – ветеран хорошо помнит все тяжелые моменты своего детства, и от его рассказа по коже бегут мурашки. – Вот случай: мы с мамой стали пробираться в сторону ее родного поселка, километров 300 от Винницы. Мать хорошо шила и по пути подрабатывала шитьем. Кстати, и передвигаться по оккупированной Украине мы могли тоже благодаря везению: кто-то из папиных друзей сделал для мамы документы, что она армянка.
Так вот, зашли мы в один дом, мама шила, а мы с сестрой бегали по деревне – вдруг кто покормит. Поздно вечером пришел хозяин, пьяный вусмерть. Он оказался начальником полиции. Поставил меня на табуретку и дал команду петь. Что я мог спеть в пять с половиной лет? – слегка улыбается Альберт Александрович. – Ну, я и спел ему. “Катюшу”. Я запомнил лицо матери на всю жизнь: белое, как потолок. Ну а что? Сейчас выведет на окраину деревни, тра-та-та, и все, нас не будет. Но… То ли пение мое ему понравилось, то ли что, но нас не расстреляли. А утром он дал нашей маме мужичка с телегой, и тот провез нас аж целых 30 километров.
Альберт Александрович отхлебывает чай, слегка собирается с силами и продолжает:
– В следующий раз меня спас от смерти мой дед, который умер за год до войны. Была годовщина его смерти. По нашим обычаям на кладбище в этот день ходят только мужчины, – объясняет А. Либзон. – Пошел на кладбище мамин старший брат, взял меня. А мама с сестричкой ушла в гости к подруге-украинке. Когда мы поднялись на кладбище, я увидел, как в деревню с горы гонят огромную толпу, тысяч семь человек. Я видел, как их прогнали мимо нашего дома, видел, как вывели из дома бабушку, двух двоюродных сестер – они только школу окончили. Людей расстреливали на расстоянии примерно полутора километров. Я все это и слышал, и видел.
Уже поздно вечером дядя сказал мне: “Посиди тут, под кустиком, а я схожу в деревню, узнаю, где мама, и что делать дальше”. Он вернулся только через день. Я сидел под кустиком. Я перестал говорить. Не разговаривал больше года.
В гетто Алик, его сестричка и мама пришли своими собственными ногами.
– Мы не знали, что дальше делать, куда идти. Недалеко от нашего села была кацапская деревня, там жили староверы. Почти на границе Румынии. И ходил слух, что якобы румыны не расстреливают.
И вот, пробираясь в Румынию, семья Либзон прямиком попала в гетто. Оно было в центре города Могилев-Подольский, Украина.
– Через этот лагерь прошло примерно 12 тысяч живых людей. А когда 19 апреля 1944 года в концлагерь пришли советские солдаты, их встретили 176 человек, – Альберт Александрович складывает руки перед собой на столе и слегка подается вперед. – И все равно я, моя сестра и мама остались живы. Везение? Везение.
Ветеран поудобнее устраивается в кресле и продолжает:
– В лагере мальчишек 6-8 лет регулярно забирали на забор крови. Выкачивали кровь полностью, до полутора литров за раз брали. Не убивали, привозили мальчиков обратно, но дольше двух недель никто из них не жил. А у меня было место, где я прятался, когда понимал, что сейчас придут забирать. И довольно долго мне все сходило. Но в один прекрасный день меня буквально через несколько минут после начала отбора поймал полицейский. Меня кто-то предал. Полицай толкнул меня в кучу стоявших мальчишек. Я на весь лагерь дико завопил: “Мама!”. А я ведь не разговаривал… Рядом стоял начальник лагеря. Он засмеялся, взял меня за шиворот и толкнул в сторону, где стояли женщины, матери этих ребят. Куда меня женщины спрятали, я до сих пор не могу понять. Но я исчез мгновенно. Везение? Везение.
Альберт Александрович немного вопросительно смотрит на нас, переводит дыхание и продолжает говорить:
– Война – это очень страшно. Страшно, потому что это смерть. Потому что она касается детей. А когда касается тебя лично, многое начинаешь понимать. Недаром уже после войны малолетние узники, даже будучи детьми, никогда не играли в войнушку. И не только сами не играли, но и другим не разрешали. Слишком хорошо мы знали, что это такое. А еще мы мечтали вырасти и отомстить за наших матерей и сестер. Сколько им досталось и что они пережили – это ад. И мы все это видели своими глазами. Мы так ждали наших! Это была наша мальчишеская мечта. А еще мы мечтали, чтобы война кончилась, Гитлера поймали, посадили в телегу, а нам дали вожжи от этой телеги и ту плетку, которой полицай отсандалил меня месяца за три до прихода наших. Эта плетка – кожаный шнурок длиной метра два с половиной, на конце был впаян шарикоподшипник. Шнурок обвивался вокруг тела, а когда полицай дергал шнурок, он кожу снимал. А еще плетка была пропитана химическим составом, которым покрывали немецкие ручные гранаты. Если хотя бы капля этого состава попадала на кожу, раны не заживали месяцами.
Когда полицай ядовитой плеткой зверски избил щуплого, изможденного, крошечного еврейского мальчишку, тело ребенка превратилось в сплошную кровавую рану. Ни сесть, ни лечь, ни просто стоять Алик не мог.
– Утром ты встаешь и не знаешь, доживешь ли до обеда. А в обед не знаешь, доживешь ли до ужина. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, – ветеран начинает говорить громче, в речи появляется напор. – Мне страшно хотелось есть. Вы даже не представляете, как хотелось есть. Взрослые заставляли нас курить сушеные дубовые листья, чтобы мы не орали, что жрать хотим! Листья отбивали аппетит.
Иногда мальчишкам удавалось убегать на время из лагеря, была лазейка через канализацию. Уйти насовсем, сбежать было невозможно, ведь дети знали: если их не досчитаются на перекличке, родных тут же расстреляют. И измученные мальчишки всегда возвращались.
– Из канализации мы попадали сразу во двор немецкого ресторана. Там была помойка. Было счастье, если удавалось набрать картофельных очисток или еще каких объедков. Приносил в лагерь, мать что-то делала из них.
Потайным путем Алик убежал из лагеря, когда начался бой, обстрелы – в город пришли наши.
– Смотрю – на железной ограде около церкви висит убитый немец. Рядом с ним висит автомат. Вот зачем он мне понадобился? Кругом было этого “счастья” сколько угодно, – постукивает пальцем по столу А. Либзон. – Нет, мне надо было именно этот автомат раздобыть. Нашел палку, стал ковырять автомат. Вдруг бежит, пригнувшись, наш солдат. В возрасте дядечка, с усами. Посмотрел на меня, отвесил мне крепкого подзатыльника, положил рядом с собой. Спросил было, откуда я, но внимательно посмотрел и сразу понял. Молча раскрыл свой вещмешок, достал буханку солдатского хлеба и банку американской тушенки. Тушенку я в жизни не видел, даже понятия не имел, что это такое. Куда все это сложить? Я снял с себя латаную-перелатаную рубашку. И солдат увидел мое тело, все в ранах от плетки полицая. Он заплакал.
Слушая Альберта Александровича, я постоянно ловлю себя на том, что при каждой новой подробности моя голова все глубже уходит в плечи, я сжимаюсь в комок. Выпрямляюсь на стуле, но меньше чем через минуту уже снова сижу, согнувшись.
– К нам подбежал еще один солдат, помоложе, – продолжает ветеран. – Он сел рядом, тоже молча осмотрел меня, открыл свой вещмешок, достал пригрошню сахара кускового и еще хлеба. И надел мне на голову пилотку. Со звездой пилотку! Я, по-моему, даже спасибо не сказал…
Из всего, что принес Алик в лагерь, ему досталась горбушка хлеба, намазанная тушенкой.
– Вкуснее еду я до сих пор не знаю. Это моя самая любимая еда.
Вернувшись в родное село, Алик пошел в школу. У великовозрастных, 11-12-летних первоклассников был один букварь на всех.
– А писал я в немецком блокноте, – рассказывает ветеран. – Закрашивал свастику и писал. И вот однажды мы расшумелись, молодая учительница никак не могла нас успокоить. И закричала: “Все, я не могу больше вас терпеть! В воскресенье будет родительское собрание, чтобы все пришли, и только с отцами!”. В классе повисла мертвая тишина. А потом начался грохот, топот, свист. Откуда ей знать было? Она была в эвакуации и горя почти не видела. Она расплакалась и убежала к директору. Пришел директор. А он только недавно из госпиталя. Посмотрел на нас и спрашивает: “Ребята, у кого отцы еще не вернулись с фронта?”. Нас встало 38 человек. Мы жили безотцовщинами, слова “папа” никто из нас не знал. И не мог знать.
Как бы подводя итог сказанному, Альберт Александрович замечает:
– Сегодня, посещая школы и детские сады и рассказывая детям о войне, я не могу объяснить им, что такое голод. Они не понимают. И слава богу!
Анна ТЮРИНА